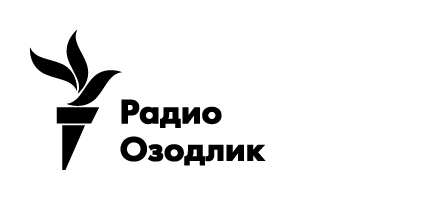Букв много, и чем дальше – тем страшнее. Помните, как недавно в юридическом колледже студент насмерть зарезал студента? Так вот, я в том колледже проходила практику юной студенткой четвертого курса. Адово место.
Важное примечание: В рубрике OzodMaktub узбекистанцы излагают свою точку зрения и свои суждения. Они могут не совпадать с позицией редакции радио «Озодлик». Наша редакция приводит данное письмо в рубрике OzodMaktub без изменений, сохранив орфографию и пунктуацию автора.
********************************************************************
У меня было три группы, где я вела русский и литературу. В двух группах студенты были как все подростки. Разные, шумные, своенравные. Было трудно, но возможно полностью удовлетворить гост, и наставников по практике.
Но была одна узбекскоязычная, куда я заходила как на плаху. Там не учили русский принципиально – мы живем в Узбекистане, хотя в другой «национальной» группе такого не было. Потому что – в этой учился сын декана. Там я узнала, что у многих все уже заранее оговорено, и место в институте, и рабочее место.
Они приходили и курили на моей паре. Закидывали ноги на парты. Матерились. Оскорбляли. Игнорировали. Дискриминировали по национальному признаку. А я – я должна была дать то, на чем настаивал учебный план. Любой ценой. Это как новобранцев кидали в ближний бой и «ни шагу назад».
У меня никогда не было и не будет идеальной дисциплины на уроке. Мне важнее интерес и дружелюбие. Но там так было нельзя.
Приходил замдекана с проверкой посещаемости. У замдекана всегда при себе была толстая палка, которой он лупил всех, кто пришел не в форме, без галстука, ну и за все вышеперечисленное – тоже. Сначала я их жалела. А потом тоже захотела такую палку. Иначе с ними было не совладать.
Уже тогда мне стало ясно, что стоит их «хурмат». То уважение, которым они каждую пару встречали меня. Староста говорил «хурмат», а остальные подхватывали – «ассалому алейкум». Ну, или нечто похабное.
Я плакала. Я просила помочь наставника по практике. Тогда никто не знал, что мы практиканты, нас представляли как молодых преподавателей. Я обращалась к кураторам. Но тот факт, что колледж подчинен Министерству юстиции, решал все. Я искала в книге, где описывались методы обучения молодежи в колониях, хоть какой-то способ договориться. Помочь не смог никто. Нас оставили мириться с этим сам на сам.
Над моими попытками полюбить этих детей уже стали смеяться подруги, «они тебя будут пинать в темном углу, а ты будешь продолжать их оправдывать».
Я сорвала голосовые связки, исхудала вконец, меня стали мучить кошмары и появилась мигрень, от которой я не могу избавиться до сих пор.
Но практика длилась всего один семестр, и я как-то выжила. Понятия о священном долге учителя, трепет перед гостстандартом и желание нести знания были еще живы. Моя группа из одних девочек плакала, когда я вела последнюю пару. Даже к директору обращались, чтобы меня оставили. И меня позвали, после окончания учебы. Но здоровье было дороже.
На следующий год я устроилась работать в школу, наивно полагая, что там будет легче.
Директор этой школы все время орала. Это была ее обычная манера общения. Скорые постоянно курсировали между школой и больницей, потому что у учителей, женщин гораздо старше и опытнее меня, отказывало сердце от такого обращения. Сколько их было за год этого ужаса – я не помню.
«Знай свое место», – орала она, когда видела, что я сижу на стуле охранника и заполняю журнал посещений. «Сейчас мы посмотрим, насколько ты крутая» – за розовую блузку, которую я надела на субботник. Классические брюки носить было нельзя, только юбки, под которые старшеклассники заглядывали на лестнице. У меня появилась привычка ходить у стен. Там было все то же самое, те же хамы. Только директор была лютой. Говорили, что ее покойный муж был мафиози, и ее хорошо прикрывали.
На уроке нельзя было присесть. Нельзя было смотреть в глаза. Нельзя было возражать. Нельзя было оправдываться. Только молчать и делать, что велено. Зато ей было можно брать за мзду неспособных к учебе детей, с очевидным отставанием в развитии и ДЦП. Да да, я учила такую девочку, она была милая, и я была не против, просто у меня был план и не было навыков работы с такими детьми.
Мне дали полную ставку, и как бонус – микроучасток. После уроков я мчалась в магистратуру, и ничего не успевала. Оно и понятно – студентка не имеет права работать на полный оклад.
Там потеряли мою трудовую, я забирала ее два года. Кстати, слово «бардак» действует как угроза в таких заведениях, вроде «экспеллиармуса», сразу все приходит в движение.
Директора уволили по статье за расхищение школьного фонда. По слухам, она теперь работает в ГИУ. Прошу любить и жаловать.
Во второй школе были отличные и душевные завучи. И такие же дети, которые прекрасно знали, что все и всех можно купить. Но там мне дали полторы ставки, потому что учителей не хватало. Это 6 уроков 5 дней в неделю. Во вторник, шестой рабочий день, я дежурила на кафедре. И я зашивалась в отчаянной попытке оплачивать контракт, жить, работать и учиться.
Внезапно директор подняла меня на собрании и устроила публичную порку, отчего это я не хожу на обмен опытом, то есть не присутствую на уроках других учителей? На что я сказала – все мои часы заняты. Времени нет. Я успевала как-то сдать вовремя отчетности, но на конспекты уроков времени иногда не хватало. И за это выговоры были жесткими. За любую болезнь там готовы были убить. И нужно было предварительно найти замену. Однажды, в приступ жуткой мигрени, обостренной светобоязнью, я вела урок в солнцезащитных очках. Меня заставили их снять. Никого не волновало, что мне в глаза как будто ножом тычут, были правила. Нарушать их было нельзя.
Я сама платила уборщице и сама делала ремонт. Иначе бы мне не дали отпуска. И всегда, везде нам навязывали то, чего мы, учителя, делать были не должны. Хлопок, уборка территории, какие-то стенды, стенгазеты. Я возразила однажды, не помню по какому поводу. Завуч наорала, сказала, что как я, малолетняя сыкуха, могу ей перечить, нажаловалась директору, та тоже наорала. Со слюнями. Надвигаясь, как будто хочет ударить...
Эта директор школы тоже принимала детей, для которых не было условий в обычной школе. Так, она привела ко мне в пятый класс девочку-турчанку, которая не знала ни узбекского, ни русского. «Посмотри, какая хорошая девочка», – и ушла. А мне всего-то оставалось ее научить языку и аттестовать не менее, чем на 4. Да, некоторых я не имела права аттестовывать. Я рисовала то, что приказывала директор. Не просила, не советовала. Приказывала. А ответственность несла я, и я видела, что ничего не значу в глазах учеников.
Одна девятиклассница на уроке заявила, что не будет выполнять упражнения, потому что у нее есть связи, а у меня связи как у уборщицы. Я поставила ей трояк за четверть, и она перешла в другой класс. Связей не хватило.
Ее одноклассник, которого пестовала и баловала мама, вырвал у меня мой мобильник из рук, когда я собралась звонить его отцу. Он не учился никак. Итог: растянутые сухожилия, телефон мне вернули через час, директор проигнорировала сей факт – ни выговора, ни наказания. И я позвонила своему парню, который провел воспитательную беседу. И за это я тоже получила выговор. Директор потом спрашивала у этого мальчика и его друзей, не угрожали ли им, не было ли рукоприкладства. Их родители хорошо платили директрисе, а я была бесправным мусором.
В той школе был случай, когда в школьном туалете старшеклассники раздели догола мальчика и фотографировали. Дело замяли, и даже нам не говорили, но сарафанное радио работает хорошо.
После, когда я забрала трудовую, директор просила меня – вернись. Тут же дети.
«Это не дети», думала я. Это будущие бандиты. Я надеюсь, я никогда их не увижу, тех идиотов, которые рисовали меня на доске голой, которые растянули мне руку, которые плевали на вымытый пол класса и рылись в моей сумке. Ненавижу. Мне не стыдно – это не я их родила и воспитала.
И я знаю, что сейчас в школах то же самое, но еще хуже. С каждым годом все хуже. Я не поздравляю никого с Днем учителя, это мой день скорби.
И учителя молчат. Работают рабами – и молчат. За любое слово, сказанное хотя бы двусмысленно, им устроят Содом и Гоморру. Даже мои однокурсницы-учителя мне боятся рассказать.
Дорогие мои, не молчите. Об этом надо орать. Пишите в личку, я опубликую анонимно. Вы не обязаны терпеть скотское обращение. Молчанием мы способствуем всему этому дерьму.
Публичность – один из немногих способов борьбы, который нам оставили.
Фаина Ягафарова